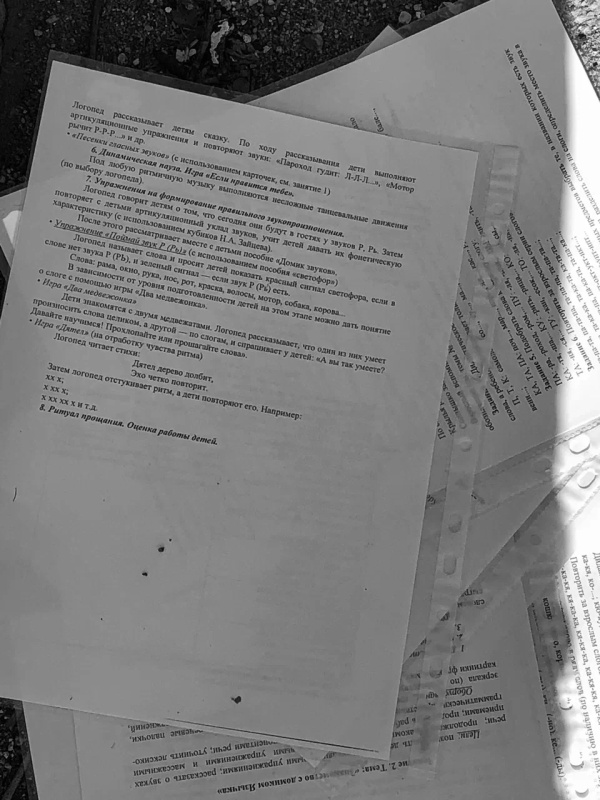Мученики. Репортаж «Антифашиста» из Мариуполя
Много боли. Много крови. Много хаоса. Так выглядит Мариуполь сегодня. Так выглядит война — всегда.
Чем ближе к югу ДНР, тем больше машин с украинскими номерами АН на дорогах — жители ранее подконтрольных Украине населённых пунктов разъезжаются подальше от войны. Кто-то эвакуируется в Донецк и близлежащие города, кто-то едет за едой и топливом. На заправке РТК в Тельманово несвойственное для этих мест скопление людей и машин: кто-то заправляется бензином, кто-то газом, кто-то звонит родственникам по телефону — возле здания АЗС последняя точка, где есть возможность поймать связь украинского мобильного оператора. На ручках дверей и зеркалах белые повязки, обозначающие, что в машине гражданские, на многих хорошо заметные издалека надписи «дети». Измученные матери держат на руках совсем крохотных младенцев...
По дорогам Новоазовского района в сторону Мариуполя идут колонны военной техники, «Уралы» с военнослужащими и боекомплектом. Со стороны Мариуполя едут колонны автобусов с мирными жителями — навстречу попались две, состоящие из пары десятков автобусов большой вместимости. Некоторые заполнены, некоторые совсем пусты. Горизонт затянут, то здесь, то там в воздух поднимаются высокие клубы дыма — рвутся снаряды, горят поля. На дорогу периодически выбегают фазаны, громко поют птицы, ярко светит солнце, в полях работают тракторы (идёт посевная), а над морем слышен гул российского штурмовика — такая весна в этом году в Приазовье.
До 24 февраля границы ДНР заканчивались прифронтовым селом Коминтерново, ежедневно, в течение восьми лет, пребывавшим под жесточайшими обстрелами со стороны ВСУ. По населённому пункту, средний возраст жителей которого составляет 70+, били из Водяного, Талаковки, Гнутово. Теперь все эти сёла (и многие другие, конечно, тоже) перешли под полный контроль армии ДНР — впервые за много лет коминтерновцы узнали, что такое тишина, и какой может быть жизнь без страха.
На улицах Талаковки, Гнутово и Сартаны на удивление многолюдно — молодёжь, дети с родителями, много машин и велосипедов. Кто-то готовится к эвакуации, собираясь в группы, но кто-то и живёт. У магазина в Талаковке не протолкнёшься, выясняется, что это единственная работающая торговая точка во всей округе. Сюда идут даже из Мариуполя.
— У вас есть пакет? — спрашивает меня девушка, сидящая на остановке в Сартане. Те самые широко разрекламированные украинские остановки, с удобными лавочками и возможностью подзарядки мобильного телефона. Отвечаю, что пакета нет. Вокруг остановки сразу две доски с объявлениями: люди продают дом, ищут работников на ферму и едут в Москву. Все объявления на русском языке, а написанные на украинском пропагандистские плакаты вдоль дороги кажутся чем-то инородным в этом месте.
— А у меня пакет почти разорвался, а мне ещё идти в Мариуполь, — говорит девушка.
— Пешком идти? — уточняю я.
— Ну да, конечно. Общественный транспорт давно не ходит. Моя машина сгорела. Я думала, что в Сартане магазин работает, оказалось, нет, пришлось идти в Талаковку. Купила продукты. Вот, села отдохнуть, — отвечает она.
Девушку зовут Эльвира, ей 29 лет. На ней модные джинсы, кроссовки и куртка Columbia, но одежда отчётливо пахнет сыростью. Сегодня первый день, когда Эльвира вышла из подвала. В семье 12 человек, родители её и мужа, братья, сёстры и двое детей. Прячутся в подвале все вместе, двухэтажный дом уничтожен почти полностью, но подвал сохранился вполне неплохо. Еды совсем не осталось, все «закрутки» — так она называет консервацию — давно съедены, запасы продуктов тоже. Эльвира преподаёт английский, её муж предприниматель средней руки, родители обоих пенсионеры.
«Моя жизнь до 24 февраля была очень хорошей», — начинает она свой рассказ, но потом мгновенно осекается, подозрительно смотрит и спрашивает, откуда я. Говорю, что из Донецка.
— Из Донецка? — переспрашивает. — Так, ладно, некогда болтать. Я пойду, мне ещё полтора часа пешком до дома...
Она обрывает разговор, резко встаёт и уходит с порванным пакетом, из которого вот-вот выпадут на землю несколько буханок хлеба, консервы, печенье и сок.
Въезжаем в Мариуполь — горизонт затянут чёрным дымом, сквозь который видны трубы металлургического комбината имени Ильича. Сейчас это одна из трёх локаций, где всё ещё обороняются «азовцы»* (репортаж писался 7 апреля — ред.)

Дома в частном секторе уничтожены практически полностью — так же, как на улице Стратонавтов в Донецке. Зрелище страшное, но для дончан, увы, привычное.
Мы едем на Волонтёровку — местное название микрорайона, где собираются жители окрестных домов, и куда привозят гуманитарку волонтёры и военные. Детский сад, школа, роддом №1 (да, тот самый, о котором упоминали в ООН), интернат для детей, отстающих в развитии, магазины, бесконечные ряды девятиэтажек — здесь разбито совершенно всё. Нет ни одного здания, которое сохранилось бы целым, зато есть свежая могила с деревянным самодельным крестом — прямо посреди двора.

Измученные, кашляющие, глядящие недоверчиво люди с маленькими детьми и собаками собрались, чтобы получить хоть что-то. Рады буханке хлеба, несказанно счастливы палке колбасы и шоколадке. Бои идут уже более сорока дней, все запасы давно съедены, а магазины разбиты — купить нечего и негде. Голод. Над головой свистят снаряды, не затихая, кажется, ни на минуту — «азовцев»* выбивают из комбината Ильича, трубы которого в прямой видимости с этой улицы. Свист снарядов никого не смущает, на него просто не обращают внимания — привыкли за эти дни, уже знают, различают как дончане, где «входящий, где «исходящий» выстрел, когда надо бежать в укрытие, а когда не стоит волноваться... В воздухе слышен отдалённый гул военных самолётов — но и к этому звуку тоже уже привыкли.
На восьмом этаже беспрестанно подвывает собака. Белая хаски осталась одна, хозяева погибли, но ни к кому другому не идёт, хотя многие пытались забрать её себе — кажется, всё ещё ждёт появления «своих». Душераздирающее зрелище.
«Я с утра здесь стою», — подходит ко мне женщина лет 30. Она представляется Катей, рядом с ней муж Матвей. Вчера, говорит Катя, пришлось отстоять в очереди семь часов, чтобы получить одну буханку хлеба. Хлеб сюда привозят волонтёры и военные, равно как и другие продукты. Когда помощь привозят военные, всё происходит очень чётко и быстро, когда за дело берутся гражданские, распределение происходит очень плохо — есть люди, которые вроде бы составляют списки, но раздача продуктов всё равно крайне хаотична, по принципу «кто успел — тот и съел». Катя с Матвеем явно не из тех, кто успевает — они скромно стоят в отдалении от толпы, не штурмуют волонтёров, не привлекают к себе внимания. В условиях гуманитарной катастрофы скромность, как выясняется, не всегда служит добрую службу.
«Мы вчера пришли домой, семь часов простояли, и достался только хлеб. Сын Ванечка, ему семь, просит жареной картошки, очень её любит — а где я её возьму сейчас? Поели хлеба и огурцов солёных, ещё с прошлой зимы осталось несколько банок. Не знаю, что есть сегодня», — плачет Катя. Матвей её успокаивает, обещает что-нибудь придумать, но что уж тут можно придумать...
Спрашиваю, почему не уезжают. Говорят, что категорически отказываются покидать Мариуполь родители, а они не хотят бросать их одних в городе, где постоянно стреляют, почему-то уверены, что если уедут, родители не выживут.
Недалеко от них стоит пожилой мужчина, крепко прижимающий к себе чёрного пса.
— Вы чем его кормите? — спрашиваю.
— Тем же, чем и себя, — говорит.
— А себя чем?
— Ничем...

«Ребята, а сигареты у вас есть?», — спрашивает кто-то в толпе. У нас есть только один блок, понятно, что на всех не хватит. Вокруг машины начинается давка.
Ко мне подходит мужчина лет 65, спрашивает, как ему похоронить свою дочь.
«Девочка моя, 41 год всего, вышла подышать на лавочку, сильно ранило. Отвёз в больницу. Теперь не могу забрать. Говорю, отдайте мне её, я похороню во дворе под яблонькой. А мне не отдают, говорят, наступит ответственность. 6 марта погибла, уже больше месяца лежит — а мне не отдают! К кому обращаться?! Никого нет! Власти нет!», — начинает он плакать и ругаться одновременно.

Подходит женщина в коричневом пальто, её белые волосы развеваются на сильном ветру, глаза слезятся. «У меня щитовидка больная, мне нужен селен. Аптеки все разбиты. Где взять?», — спрашивает она меня. Я направляю её к волонтёрам, они обещают привезти в следующий раз, но понимаю, что долго так продолжаться не может, бесперебойное обеспечение лекарствами — задача власти, а не частных лиц.
Трое молодых мужчин — не старше тридцати — предлагают место под магазин. Говорят, есть место, не слишком повреждённое обстрелами, там можно разместить небольшую торговую точку, хотя бы как временный вариант. Называют свои фамилии, дают телефоны, просят с ними связаться всех интересующихся. Но очевидно, что и вопрос налаживания торговли в микрорайоне — это вопрос власти.
На безвластие и хаос жалуются и другие местные, обступившие нас. «Трупы в ЖЭКе лежат — что с ними делать?», — эмоционально спрашивает одна из женщин. Она рассказывает, что украинский мэр Бойченко сбежал одним из первых, никаких гуманитарных коридоров, похоже, организовывать и не собирался. Банкоматы перестали работать ещё в феврале, даже те, у кого есть деньги в банке, получить их не могут — нет ни банков, ни банкоматов. О том, что уже назначен новый мэр, никто из жителей Волонтёровки не слышал — нет света, нет связи, нет интернета. Интересуются, кого назначили власти ДНР. Говорим, это Константин Иващенко, бывший топ «Азовмаша». Негатива не слышим, кажется, выбор новой власти не вызывает нареканий, во всяком случае, пока. «Только скорей бы он работать начал!», — говорят почти в один голос. Спрашивают, будут ли восстановлены «Азовсталь» и «Ильича», кто и в какие сроки будет восстанавливать город, станет ли Мариуполь и ДНР в целом частью России, кто будет платить пенсии и пособия, и вообще — как дальше жить? Это вопросы, на которые должны отвечать представители власти, и, надеюсь, скоро эти ответы будут даны.

Мужчина в чёрной куртке интересуется, будет ли восстановлен завод «Азовсталь», женщины говорят о безвластии и хаосе
Внезапно людей как будто прорывает, и они начинают рассказывать об Украине. Возмущаются тем, что «азовцы»* и ВСУ не сдались — это спасло бы тысячи жизней и город, жалуются, что радикалы занимали их дома, стреляли по ним из окон, убивали мужчин и даже девочек-подростков, гуляющих на улице, намеренно били по жилым домам, чтобы обвинить в этом армию ДНР. «И это наша Украина?! — почти кричит одна из женщин. — Да на хрен она такая нужна!».
«Хотите, я вам покажу дом, где под завалами тридцать человек лежат?», — спрашивает высокий черноволосый мужчина с греческим профилем.
— Как лежат? — не сразу понимаю, о чём идёт речь.
— Так лежат. Мёртвые, — тихо отвечает он.
Вместе с ним и его женой — эффектной блондинкой — мы идём в район роддома №1, того самого, в котором находилась база «Азова»*, и о котором говорили глава МИД РФ Сергей Лавров и представители России в ООН. Улица Металлургическая разбита полностью, дома чёрные.
«Смотрите, где дома чёрные, значит, там сидел „Азов‟*», — говорят они мне. Чёрных домов тут каждый второй...
Роддом разбит, от него не осталось практически ничего. Точно так же разбит расположенный на несколько улиц поодаль интернат для детей с задержками в развитии. Ветер носит по пустым пыльным улицам листки бумаги, на которых расписана программа обучения — на русском языке. Похоже, украинский тут применялся только на официальных плакатах и призывах украинской власти, но он так и не стал хоть сколько-нибудь своим для мариупольцев.
Улицы-руины, улицы-призраки, улицы, с которых исчезла жизнь. Под ногами клочья оборванных проводов, покорёженное железо, куски бетона, арматура, камни — мы заходим во двор «чёрной» многоэтажки. От неё остались только стены, внутри всё выжжено дотла.
Ветер раскачивает пустую жёлтую качелю, она тихо поскрипывает в звенящей тишине под нависающей чёрной громадой того, что когда-то было домом.

«Мы не хотели их пускать — но кто нас спрашивал! Потом мы их гнали, но что мы могли сделать, если у них оружие! — говорит Игорь. — Они залазили на верхние этажи, на крыши, стреляли оттуда по дэнээровцам. Да, они прикрывались нами. И всё, что вы видите, этого могло бы не быть. Почему они не сдались? Неужели было непонятно, что их всё равно разобьют?! Зачем всё это?!!», — громко спрашивает он. У меня нет ответа.
Игорь с двумя детьми и женой три недели прожили в подвале. Теперь собираются возвращаться в свою разбитую квартиру в девятиэтажку, стоящую напротив «чёрной». Сегодня ночью Игорь ночевал в ней первый раз один — воды, света, газа, тепла нет. Температура в комнатах не поднимается выше четырёх градусов. Одна комната завалена полностью, но две более или менее целы. Окон нет. «Затянем тряпками, — говорит он. — Потом, как магазины откроются, вставим новые. Всё равно лучше, чем в подвале. Всё-таки своя кровать, а не полный подвал чужих людей».
Он ведёт меня к соседней с «чёрной» панельке. Один подъезд сложился как карточный домик. «Тут они», — говорит. По словам Игоря, под завалами находятся человек 30—35, точных данных о количестве людей нет (мы не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию — ред.). Все мёртвые. «Мой друг здесь жил. Его тогда дома не было. Вернулся — и вот такое. Говорит, что видит руки и голову своей жены, но сделать ничего не может. Нужен кран, чтобы поднять плиты», — рассказывает он, призывая не подходить к дому сильно близко, боится, что тот может полностью обрушиться в любую минуту.
Стоим и смотрим на дом. Молчим.
— А чего не уедете? — спрашиваю у Игоря и его жены, которая молча ходит за нами.
— Ищем брата. У жены брат пропал почти месяц назад. Ушёл на Левый берег к своей девушке, выяснить, как она там, когда связь пропала, и не вернулся до сих пор. Идти искать не можем пока, всё простреливается. Знакомые его не видели. Сейчас всё утихнет, начнём искать. А мы тут тётю ещё похоронили неделю назад, — как-то буднично говорит он.
— Обстрел?
— Нет. Инфаркт.
— А как похоронили-то?
— Ну, как-как. Вырыл яму тут неподалёку, пока не стреляли. Завернули в простыню, потом в скатерть — и закопали. Но я думаю, это же временно, да? Как всё закончится, обязательно перезахороним...
* Запрещённая в России и ДНР организация